Independent press Свободная пресса Вільна преса
 5 февраля 2014, 14:00 2
5 февраля 2014, 14:00 2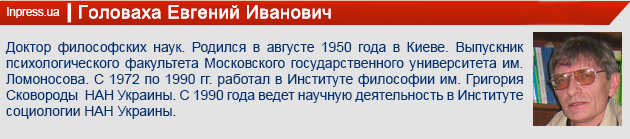
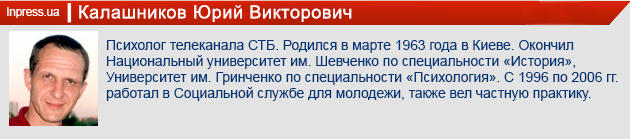
«Вранье рано или поздно должно было закончиться»
Вопрос: Во времена Советского Союза за формирование человека отвечала партия. Машина пропаганды вбивала в молодые головы мысли о высших задачах государства и важной роли советских идеалов для каждого гражданина. На Ваш взгляд, может, определенное рациональное зерно было в такой работе? Действительно ли молодежь формировалась в сознательное, целеустремленное и продуктивное поколение?
Калашников: Наряду с тем, что вырастало поколение именно сознательных людей, стоит задаться вопросом — сознательных в чем? В основу педагогического подхода была положена задача выращивания такого поколения: людей послушных, работоспособных, преданных определенной идее. На втором уровне формировалась эта идея с помощью определенных манипуляций с историческими данными.
В этом довольно большую роль играло киноискусство. Людям показывали, как надо реагировать на те или иные ситуации в жизни. В то же время это и погубило сам этот строй. Потому что тяга к справедливости при неумении видеть, где правда и честность, привели к логическому итогу: это вранье рано или поздно должно было закончиться.
Но насколько патриотичным человек должен быть, мы сейчас и наблюдаем. Оказывается, любая патриотичность должна основываться все-таки на честности, открытости и доверии. А если доверия нет, то у нас не получается никаких взаимоотношений, договоренностей и прогресса: ни бизнеса, ни экономики.
Поэтому обучение правилам и законам доверия должно входить в воспитание граждан. За это мы несем ответственность. Это где-то и есть европейские традиции, как их сейчас называют. А на нашей территории — это христианские традиции — те, которые есть и всегда были у нашего народа.
И государство должно это поддерживать, целенаправленно заниматься воспитанием молодого поколения. А воспитание основано исключительно на личном примере. Не должен человек воспитывать и говорить одно, а поступать в жизни по-другому. Это уже нечестно, это противоречит доверию. Если государство не поддерживает молодежь, если оно не занимается таким «честным» воспитанием, то эта система нарушена (а любая система стремится к равновесию), обязательно будут проявления невоспитанности, агрессивности со стороны молодых, и не только.
Головаха: Конечно, работать с молодежью обязательно надо, тем более в той системе, которая хочет сохранить стабильность.
Советский подход был рациональным с точки зрения интересов той системы, которая это им вдалбливала, с точки зрения власти. Рационально потому, что молодежь — это наиболее потенциально-агрессивная часть общества. И в этом отношении, не вся советская рациональность была псевдорациональной.
Понимаете, в чем проблема? По мере того, как власть теряла свою собственную легитимность и рациональность, молодежь в меньшей степени воспринимала пропагандируемые ценности и идеалы как свои. Что, собственно, и проявилось в период перестройки и развала.
«Во всех революциях именно молодежь первой реагирует на ситуацию в обществе»
Вопрос: Вы наверняка знаете, что когда начались события на «майдане», в частности, поднялась первая волна активности и возмущения, главной в этом движении выступила молодежь. Она показала, что у нее есть идеалы в принципе. Как Вы считаете, что стало реальным мотивом для радикальных действий молодых людей?
Калашников: Молодежь — это и есть показатель. Это то будущее, которое дает возможность зрелому населению страны и пожилым людям чувствовать себя уверенно. И здесь отношения, основанные на порядочности, честности и открытости, и сыграют важную роль.
Во всех революциях именно молодежь первой реагирует на ситуацию, которая складывается в обществе, на отношение к ней тех, кто стоит у власти и олицетворяет определенное направление движения страны в целом. И если у них нет уважения к своей собственной молодежи, это значит, что у страны нет будущего. Поэтому майдан как раз и показал, что это несоответствие существует.
Оказалось, что более защищенно родители могут себя чувствовать, если их ребенок находится за пределами страны, где-то далеко. Потому как здесь, если их ребенок студент и открыто выражает какие-то свои мысли, его могут за это побить…
Проявилась также определенная направленность тех, кто отчасти организует нашу жизнь, кому мы отдали в руки нашу безопасность, наши коммуникации, контроль порядка, защиты и спокойствия. Они проявили свое отношение к нашим детям.
Причем данная протестная реакция изначально и вывела студентов, молодежь на улицы. Ведь это естественно, когда предлагается человеку выбор, где он больше имеет возможности развиваться (противовес: это будет все-таки связано с Европой, а не с Россией, допустим), а потом отбирают такую возможность и почему-то за него решают, то он протестует.
Молодежь просто высказала свое мнение. Высказала — надо было ее выслушать, раз мы к ней уважительно относимся. Разъяснить, спокойно побеседовать — в самом начале. Если же мы считаем, что мнение молодежи надо подавлять ремнем, так как делают иногда в наших семьях, тогда, получается, что надо бить и проявлять насилие. А это оказалось неприемлемым.
Все остальное — это уже показатель: оказывается, не только к нам плохо относятся, но и к нашим детям.
Головаха: Я бы не говорил о радикальных мерах со стороны молодежи. А в том, что она была наиболее активным участником протеста, присутствуют два фактора.
Во-первых, то, что им пообещали Европу, а не дали. Студенты реально заинтересованы в том, чтобы мы продвигались в ЕС, и это вполне нормальное желание. Реализоваться в более широком пространстве, чем в нашем, где для образованных людей гораздо больше возможностей.
Понимаете, у людей старшего поколения небольшие, в общем-то, запросы. Поэтому они могут адаптироваться в нашем обществе. У молодежи — запросы высокие, а возможности реализоваться нет, и в широком европейском пространстве эта возможность появляется. Несмотря на то, что у них кризис. Кризисы там проходят, уже первые признаки стабильности есть, а у нас кризис — перманентный.
То есть первая причина — это действительно мощное разочарование. Вторая — это неудовлетворенность вообще реальной ситуацией последних лет: когда образование бюрократизируется, а коррупция и бесправие расширяются. Молодежь ведь нельзя считать совсем слепой: она хорошо видит, что творится в их ВУЗах. Это второе. Есть, думаю, и третье: молодежь всегда романтично склонна к действию.
«Западная молодежь имеет много проблем, сходных с украинскими»
Вопрос: По Вашему мнению, идеалы западной молодежи и украинской отличаются? Есть ли у них что-то общее или, может, они идентичны?
Калашников: Те идеалы, которые дают возможность человечеству сосуществовать, с моей точки зрения, как верующего человека, продиктованы Богом. И они общие для всех. И куда бы мы не пришли, всегда нужно помнить: нельзя нарушать внутреннее или внешнее пространство человека — его так называемую личную территорию, нельзя на нее входить со своими правилами. То же и в отношении общества: стоит узнать сначала, как люди относятся на этой территории к тем или иным, так сказать, раздражителям, а потом уже как-то проявлять себя.
В то же время, если мы гости, то знаем: если вы нуждаетесь, вас «накормят-напоят». Таковы традиции практически у всех народов, не только у нас — и в Европе, и в России так принято поступать. И в этом отношении я не вижу никакого противостояния между этими двумя системами.
Возмущение же пошло именно против неуважительного отношением к нашей молодежи. По всей вероятности, на определенном этапе, если бы власти извинились перед молодежью, может быть, и не было бы ничего другого. Но этого никто из них не увидел. И каждый гнет свою политику, и никто не хочет, так сказать, отступать.
Головаха: Я Вам должен сказать, что и западная молодежь имеет много проблем, сходных с украинскими. Поскольку там кризис последних лет существенно сократил базу и схему ее реализации. В итоге для значительной части молодежи, особенно образованной, там возник вакуум занятости. Они тоже по-своему бунтуют, но не так остро, как у нас, поскольку это несопоставимые проблемы.
Там же, на Западе, у молодежи более прагматический подход к будущему. Видите, где больше всего бунтует и протестует молодежь на Западе? Это Испания, Греция, Португалия. В тех странах, где кризис в большей степени затронул экономику. Основной сектор причин, двигатели протестов — и там, и здесь — сокращение возможностей самореализации в материальном, да и в творческом, отношении.
Я бы не сказал, что наша молодежь уж так принципиально отличается. Другое дело, что у них нет вопросов со свободой, а у нас — есть. Хотя у них свобода выше, чем у нас, и они выше ее ценят. Но у них больше возможностей в этом смысле. А молодежь особенно ценит свободу, в силу ее романтического отношения к жизни. Люди пожилые — более консервативны, более стабильны — когда-то у нас вообще свободу очень мало ценили. А сейчас эти проблемы обостряются.
Вопрос: Многие сходятся во мнении, что государственная идеология, ориентированная на воспитание национальных ценностей у молодежи, у нас отсутствует.
Головаха: После советского опыта у нас сложилось в целом скептическое отношение к идеологической работе как таковой. Понимаете, ее считают, скорее, навязыванием, чем патриотическим воспитанием.
Я ведь был когда-то в Комитете по политической социализации обучения Международной ассоциации политических наук. И там, на Западе, общался несколько лет с коллегами. Они очень большое внимание уделяют именно этим вопросам: политическая социализация и обучение, воспитание национально-гражданской идентичности и патриотизма. Потому что это считается абсолютно нормальными и необходимыми для стабильного государства и общества вещами. У них есть для этого специальные программы.
У них есть специальные программы. Это было и у нас. Но в несколько назойливой форме. А потом долгий период была брешь в такого рода работе. В итоге, к сожалению, наши специалисты в этой области так особо и не продвинулись. Не смогли создать такую систему, которая бы не выглядела навязчивой, навязанной, и вместе с тем бы воспринималась как нормальная схема политического обучения и воспитания.
Это, собственно, в нестабильных обществах вообще трудно формировать настоящую национально-гражданскую идентичность. Результат сказывается — у нас до сих пор такая идентичность существенно менее выражена, чем в большинстве стран Европы.
«Нестабильность и неустойчивость особо проявляются во времена кризиса»
Вопрос: Можно ли данный результат назвать предпосылкой для радикализации молодежи?
Головаха: Если бы у нас думали о том, как возникают правые радикалы, левые радикалы и разного рода ура-патриоты!
Чтобы эта система уже сама по себе устоялась, надо чтобы уже немного устоялась и политическая жизнь в обществе. Пока же мы мечемся в разные стороны, и это проблема. И это, кстати, ответственность, прежде всего, так называемой политической элиты, особенно власти: обеспечивать политическую стабильность и устойчивое развитие страны. Тогда политическую социализацию и обучение можно включить и в государственную систему образования. Чтобы это не вызывало ощущения, что какие-то ценности, идеалы, являются навязанными, а не вполне естественными.
У нас много проблем, эта — была не самой актуальной, а вот сегодня, видите, выходит на передний план. Все вещи, связанные с нашей нестабильностью и неустойчивостью обнаруживаются во времена кризиса. А у нас этих прорех очень много, и эта только одна из них.
Это все должно быть вписано в стратегию развития государства. Вы видели такую стратегию? И это только один из элементов. Это не значит, что должно быть прописано, где какое создать общество. Это значит, что должна быть политическая социализация молодежи, которая, как не смешно, существует в демократически развитых странах. Это система подготовки людей к жизни в демократическом обществе. А у нас подготовки с людьми к жизни в демократическом обществе нету.
Вопрос: А кто именно в стране должен нести ответственность за патриотическое воспитание?
Головаха: За патриотическую и политическую социализацию у нас ответственны специально уполномоченные службы. Во-первых — это правительственный социальный блок, его всегда возглавляли вице-премьеры. Кроме того, это парафия Министерства образования, обязательно. Во-вторых, это парафия академической науки, которая должна разрабатывать соответствующие программы, систему. Почему они этого до сих пор не сделали?
У нас есть Ассоциации политических наук, но они до сих пор считают, что не ответственны за это, а делают много. Мне трудно судить, но на практике я вижу, что системы политической социализации у нас нет. И это действительно очень плохо. С другой стороны, я не уверен, что в условиях политической нестабильности она могла бы реально функционировать. Прежде всего, нужно обеспечить политическую стабильность и устойчивое развитие государства.
Вопрос: Где же нынешней молодежи в нынешних условиях искать идеалы для своей реализации?
Калашников: Конечно, в своих корнях. У нашего украинского народа — чудесная история. Где-то история всех народов одинакова. И она приводит к тому, что насилием ничего решать нельзя, что должны быть определенные законы, которые написаны для всех, что мы должны хорошо относиться друг к другу, стремиться к лучшему, но и не быть жадными, наглыми и т. д.
Эти идеалы есть, и не надо ничего искать. Они в крови, в генах любого человека, который здесь живет. Несмотря на все эксперименты, которые проводились с народом, — с дедушками и бабушками тех, кто стоят на майдане. Они свое выстояли. У них дома иконки есть, они уважают Шевченко, знают много народных песен, любят всех людей, которые живут по соседству, в том числе и каждого россиянина, они хотят жить мирно, выращивать леса, сады, засевать поля пшеницей, отдыхать.
Все это у нас в генах. Как-то по-своему это видит российский народ. Тот, который в глубинке, а не в Москве у руля. Наверное, видит точно так же. Они тоже хотят мира, добрососедства, они хотят жить, рожать детей, потому что главное — это семья, это наши семейные отношения. И когда бьют и обижают детей, тогда, равно как и во всей природе, по закону старшие становятся на защиту младших.
Комментарии
0Комментариев нет. Ваш может быть первым.